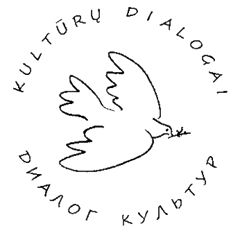Наталия Большакова
Жизненный путь отца Александра
Александр Мень родился 80 лет тому назад, в 1935 г., в Москве – столице огромной страны – Советского Союза. К 1935 году общество было уже окончательно порабощено. И «официальная» Церковь Московского патриархата была почти задушена, обезглавлена после смерти патриарха Тихона в 1925 году (осталась без патриарха на долгие годы; за исключением нескольких епископов, остававшихся на воле, – все архиереи были убиты или арестованы; обновленческий раскол, организованный ГПУ – НКВД, разрушал Церковь изнутри). Сталин уже развязал в СССР «большой террор», шли массовые аресты, в ГУЛАГ уже были брошены миллионы людей.
В первый же год революции было решено полностью искоренить «религиозные предрассудки», а конкретно – закрыть все храмы и запретить таинство Евхаристии. И хотя этот план не был приведен в исполнение, натиск, обрушившийся на Церковь, превзошел по своей силе все, что знала история со времен римских императоров и Французской революции.
Во время массовых репрессий пострадало большинство епископов, огромное число священников и активных мирян «тихоновского» направления (оставшихся верных патриарху Тихону и тем, кого он поставил своими преемниками в своем завещании). Закрывались и уничтожались храмы и монастыри, были ликвидированы духовные учебные заведения; тюрьмы, лагеря и отдаленные места ссылок наполнились многими тысячами исповедников веры: духовенством, монахами, мирянами – мужчинами и женщинами. Официально преследования верующих шли под маской «борьбы с контрреволюцией».
Говоря об отце Александре Мене, мы входим в трагическую и славную историю Катакомбной церкви ХХ века. Многие из тех, кто являлись его духовными наставниками, были репрессированы за участие в «антисоветском церковном подполье». Все они были членами Катакомбной церкви – церкви, казалось бы, слабой и гонимой, но, на самом деле – непобедимой. Гонимую Церковь основали святые исповедники и мученики, духовенство тех страшных лет, о земных судьбах которых говорить до сих пор невыносимо больно. В то время полной беспросветной тьмы эта община святых спасала основы христианства, чистоту православия ценой своей жизни.
Среди них были выдающиеся служители Христовы, оказавшие огромное влияние на людей, искавших подлинно церковной жизни. В их числе – архимандрит Серафим (Сергей Михайлович Батюков*, 1880-1942), он был близок патриарху Тихону и его готовили к архиерейскому служению. Отец Серафим не принял Декларацию митрополита Сергия (Страгородского) в 1927 году и всю «сергианскую линию» о соединении Церкви с советской властью, и ушел в 1928 году в затвор, на нелегальное положение (под юрисдикцию епископа Афанасия Сахарова, продолжавшего и из ссылки и лагеря руководить своим духовенством и паствой). Это была церковная оппозиция.
Отец Серафим был учеником Оптинских старцев и в катакомбы ушел по благословению последнего Оптинского старца Нектария (Тихонова, 1853-1928, канонизирован в 2000-м году), и в своем пастырском служении руководствовался советами старца, стяжавшего дары чудотворения и прозорливости. Наставником о. Серафима был и старец Зосима (в схиме – Захария), – духовник Троице-Сергиевой Лавры до ее закрытия в 1920 году.
Отец Серафим (Батюков) был подлинным продолжателем традиции старчества. Его подход к человеку был всегда личностным, глубоко индивидуальным. С каждым он беседовал отдельно и его советы относились только к этому человеку (он нередко даже запрещал передавать их другим); с бесконечным терпением и любовью о. Серафим вел каждую душу, возводя ее ко Христу. Главное свое призвание он видел в том, чтобы быть пастырем, кормчим душ и «оберегать чистоту православия».
Отец Серафим только чудом избежал ареста, тайно жил в разных местах и, в конце концов, поселился в Сергиевом Посаде (переименованном тогда в Загорск), в небольшом деревенском доме у двух сестер, монахинь из закрытого Дивеевского монастыря (любимого монастыря прп. Серафима Саровского). Там, в маленькой комнате, перед иконой Иверской Божией Матери, был поставлен алтарь и служилась литургия. Здесь бывали и совершали богослужения многие подвижники Катакомбной церкви. В перерывах между арестами бывал и епископ Афанасий (Сахаров), и его духовником был отец Серафим. Сюда, в неприметный дом на окраине города, стекались отовсюду многочисленные духовные дети архимандрита Серафима за советом и утешением. Милостью Божией этот церковный очаг сохранялся довольно долго (до 1943 г.) в обстановке доносов и непрерывных арестов. Служба шла вполголоса, окна были наглухо закрыты, мерцал огонек лампады. Отец Серафим служил всегда медленно, торжественно, спокойно; тихонько пели монахини. Время от времени кто-нибудь подходил к входной двери и прислушивался, затем подавал знак, что все спокойно и служба продолжалась. Каждый следующий день был под вопросом, каждый стук в дверь или в окно мог обернуться началом мученического пути. (Пока батюшка Серафим был жив, все были целы.) Совершая тайные литургии в узком кругу духовных детей о. Серафим трудился на благо всей Церкви, и для будущего, для нас. Участники этих богослужений говорили, что в этой маленькой комнате они переживали вселенское, космическое значение Евхаристии. В этой комнате перед началом литургии 3-го сентября 1935 г. были крещены младенец Александр и его мать Елена Мень.
Предчувствуя свою кончину, о. Серафим сам захотел исповедовать меленького Александра, Алика, как его звали близкие, еще до того, как мальчику исполнится 7 лет. После первой исповеди у батюшки Алик так передавал свои впечатления: «Я чувствовал себя с Дедушкой так, как будто я был на небе у Бога, и в то же время он говорил со мной так просто, как мы между собой разговариваем».
Любовь о. Серафима к Алику, его удивительное отношение к мальчику нельзя рассматривать иначе, как проявление Божьего милосердия, как пророческое прозрение будущего этого ребенка, его великого поприща апостола, просветителя, миссионера и мученика, своим служением и самой жизнью и смертью хранившего чистоту Церкви Христовой.
В воспоминаниях духовной дочери о. Серафима, Веры Василевской (двоюродной сестры мамы Александра Меня) есть такие слова: «Мы сидели вместе с батюшкой около его дома. Алик принес какой-то цветок и, показывая его батюшке, говорил: «Вы только посмотрите, какой он хороший». – «Да, да, душечка, – ответил батюшка, – такой же хороший, как ты». Вера Яковлевна много гуляла с Аликом, батюшка придавал этим прогулкам большое значение, он советовал: «Не надо много говорить с ним. Если он будет задавать вопросы, надо ответить, но если он тихо играет, читайте Иисусову молитву, а если это будет трудно, то – «Господи, помилуй». Тогда душа его будет укрепляться».
Когда Елена Семёновна (мама Алика), по благословению о. Серафима, выстроила дачу (мужу дали на работе участок земли), батюшка очень ею интересовался. «Я там не был, но мысленно я всю дачу обхожу». Ему хотелось, чтобы вокруг дачи был высокий забор, для того, чтобы Алик мог свободно гулять по саду один. Однажды Елена Семёновна попросила о. Серафима разрешить сводить сына в церковь, чтобы показать ему благолепие храма. (Духовные дети о. Серафима не ходили в «сергианские» церкви, только в Греческое подворье он разрешал им иногда ходить.) Батюшка благословил повести мальчика в храм, но Алик чувствовал там себя нехорошо. «Поедем лучше к Дедушке, или в Лосинку», – просил он. Когда об этом сказали батюшке, то он ответил: «Если Алик чувствует это и разбирается, то и не надо водить его теперь в церковь». До пяти лет Алик причащался совершенно спокойно, но к этому возрасту он начал заметно волноваться перед причастием, – очевидно, это было подсознательное ощущение глубинного смысла таинства. Отец Серафим, понимая, какая важная внутренняя работа происходит в душе ребенка, решил, что настало время систематически знакомить его с содержанием Священного Писания, так как он уже в состоянии отнестись к этому сознательно.
Перед своей кончиной в феврале 1942 г., о. Серафим поручил семью Меней одному из ближайших своих священников-единомышленников – отцу Петру Шипкову (1881-1959 гг.), выдающемуся подвижнику, исполненному негасимого духовного света, несмотря на годы тяжких страданий (он пробыл в узах в общей сложности около 30-ти лет). На облике о. Петра не было печати горечи или ожесточения, а только – любовь, благодарность и полное приятие воли Божьей (о чем свидетельствуют его письма из лагеря и ссылки). В этом страшном мире он словно был воплощением слов апостола Павла: «Всегда радуйтесь!». Любовь о. Петра к людям, со всеми их слабостями и немощами, основывалась на его несомненной уверенности в милосердии и любви Божьих. Для него Бог был, прежде всего, Deus caritatis – Бог милосердия. Он умел разгонять мрак в душе человека, и каждого предостерегал от уныния, мрачности, отчаяния, чувства безысходности. Так же, как и о. Серафим, о. Пётр осуществлял старческое руководство вверенных ему душ, – в его конкретности и глубине, – следуя за малейшими сердечными движениями человека, сострадая, молясь, помогая советом – соответственно особенностям устроения души каждого чада, веря, что и в вечности возрастание каждой души будет продолжаться.
Перед своим арестом осенью 1943 г., о. Пётр просил матушку схиигуменью Марию (1880-1961) не оставить семью Меней, – «Уж моих-то вы примите». Это был еще один очаг Катакомбной церкви в Загорске – в деревенской избе много лет существовал тайный женский монастырь (духовником монахинь до 1942 г. был о. Серафим), куда Алик Мень приезжал и оставался на длительное время. Личность матушки Марии тоже очень повлияла на мироощущение, выбор пути и служения Александра Меня.
Среди этих людей, живших в абсолютной преданности воле Божьей, ушедших в катакомбы и лагеря ради сохранения чистоты православной церкви, родился, был крещен, воспитан и с детства благословлен на священническое апостольское служение Александр Мень, став по праву «наследником той праведности, что дается за веру» (Евр 11:7).
Для человека, родившегося в Москве в разгар сталинских репрессий, биография Александра Меня не просто необычна, она выглядит как чудо, как легенда – он с детства участвовал в тайных богослужениях, вырос и сформировался в условиях подпольной церкви, когда литургии служились в лесу на поляне, или в комнате незаметного деревенского дома, - поэтому он знал цену подлинной христианской жизни, знал, что Дух дышит, где хочет, и там, «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них». Александр, по известному выражению, действительно «впитал веру с молоком матери». Елена Семёновна Мень, ожидая появления на свет своего первенца, желая посвятить его Богу, жила уже под молитвенным попечением катакомбного старца. Незадолго до родов о. Серафим передал письмо, в котором писал, чтобы Елена была спокойна в предстоящих ей испытаниях, надеялась на милосердие Божие и Покров Божией Матери, – словно зная, что роды будут очень тяжелыми и длительными. Так, еще до личного знакомства, о. Серафим уже, как духовный отец, «вёл» Елену и её ребенка, и когда родился сын, названный Александром, крестил мать вместе с младенцем, и во время кормления ребенка грудью, Елена читала специальное молитвенное правило, данное ей о. Серафимом: три раза «Отче наш», три раза «Богородице Дево» и один раз «Верую» – так батюшка с самого рождения начал духовное воспитание мальчика. Елена Семёновна в своих воспоминаниях «Мой путь» пишет, как о. Серафим, глядя на Алика, которому было всего полтора года, сказал ей: «Он большим человеком будет». И еще о. Серафим сказал ей об Алике: «В нем осуществятся все наши чаяния». Это он говорил ей от лица Церкви, а она слагала слова сии в сердце своем, всегда имея абсолютное упование на Бога и Пресвятую Богородицу. Это ей, своей матери посвятил о. Александр главный труд своей жизни – книгу о Христе «Сын Человеческий», приведшую ко Христу тысячи людей, продолжающую быть и сегодня востребованной, переведенной на многие европейские языки.
Удивительна и кончина Елены Семёновны. Мать и сын были вместе до последнего ее вздоха. Отец Александр причастил ее; читал над ней отходную, держал руку на ее голове, молился до самого конца, она уходила очень спокойно, мирно, неотрывно смотрела на картину, висевшую напротив ее кровати, где был изображен Иисус, идущий по водам.
Из письма о. Александра с. Иоанне Рейтлингер в январе 1979 г.: «…15-го на прп. Серафима умерла мама. … Ее жизнь была цельной на редкость, вся отданная Христу. Трудно даже оценить, сколь многим я ей обязан. У нас была общая жизнь, общий дух». Отец Александр говорил впоследствии, что и после ее смерти чувствовал маму очень близко, что общение их не прервалось.
Промыслительно и то, что христианство Александра Меня, родившегося в еврейской семье, берет свое начало задолго до его рождения. Вот слова самого о. Александра из письма 1971 г.: «Я был рожден в православии не только формально, но и по существу. Семья наша издавна считала себя живущей под благословением о. Иоанна Кронштадтского. Он вошел в ее жизнь не из книг. Мамина бабушка, которая еще нянчила меня, бывала у о. Иоанна, и он исцелил ее от тяжкой болезни. При этом он отметил ее глубокую веру, хотя знал, что она не была христианкой, а исповедовала иудейскую религию. Думается, что благословение о. Иоанна не осталось втуне: мать моя с раннего детства прониклась верой во Христа и передала мне ее в те годы, когда вокруг эта вера была гонимой и казалась угасающей, когда многие люди, прежде бывшие церковными, отходили от нее. Это была трагическая эпоха, требовавшая большого мужества и верности. Поколебались многие столпы… И мне остается только быть вечно благодарным матери, ее сестре и еще одному близкому нам человеку за то, что в такое время они сохранили светильник веры и раскрыли передо мной Евангелие. Наш с матерью крестный, архимандрит Серафим, ученик Оптинских старцев и друг о. А. Мечева, в течение многих лет осуществлял старческое руководство над всей нашей семьей, а после его смерти это делали его преемники, люди большой духовной силы, старческой умудренности и просветленности. Мое детство и отрочество прошли в близости с ними и под сенью преподобного Сергия. Там я часто жил у покойной схиигуменьи Марии, которая во многом определила мой жизненный путь и духовное устроение. Подвижница и молитвенница, она была совершенно лишена черт ханжества, староверства и узости, которые нередко встречаются среди лиц ее звания. Всегда полная пасхальной радости, глубокой преданности воле Божией, ощущения близости духовного мира, она напоминала чем-то преподобного Серафима или Франциска Ассизского. Я тогда … считал (да и сейчас считаю) ее подлинной святой. Она благословила меня в конце 50-х годов на церковное служение и на занятия Священным Писанием. У матери Марии была черта, роднящая ее с Оптинскими старцами и которая так дорога мне в них. Эта черта — открытость к людям, их проблемам, их поискам, открытость миру. Именно это и приводило в Оптину лучших представителей русской культуры. Оптина, в сущности, начала после длительного перерыва диалог Церкви с обществом. Это было начинание исключительной важности, хотя со стороны начальства оно встретило недоверие и противодействие. Живое продолжение этого диалога я видел в лице о. Серафима и матери Марии. Поэтому на всю жизнь мне запала мысль о необходимости не прекращать этот диалог, участвуя в нем своими слабыми силами. … Со студенческих лет особенное значение имели для меня пример и установки моего духовника (благословившего меня в 1960 г. принять священнический сан) о. Николая Голубцова (1900-1963), который до самой своей смерти не оставлял меня своим попечением и дал мне еще один высокий образец «открытости» к миру, служения в духе диалога. Под знаком этого диалога проходило и проходит мое служение в Церкви»**.
Церковное служение своих духовных наставников – их исповедничество – Александр Мень принял как эстафету и понес дальше спасенный ими в условиях жестоких гонений огонь веры, и в условиях тоталитарного режима, когда сама Библия считалась «подрывной литературой», бесстрашно проповедовал Благую Весть о спасении. В нем действительно воплотились их чаяния.
В жизни о. Александра, с самого детства, главным был Христос, Его Радостная Весть, Его любовь и чудо личной встречи с Богом.
Из письма к с. Иоанне: «От того, что есть Христос (не учение и не дело, а Он) – человеку хочется жить. Есть для чего просыпаться каждый день. Только понимая это, приходишь к благодарному сознанию чуда, данного нам. Вожделенная цель – «сливаться с Ним». Главное чудо – это внутренняя встреча с глубиной бытия, с Небом на земле дает многомерность бытия».
Пастырство о. Александра укоренено в Слове Божьем, в опыте святых, в верности Церкви и своим духовным наставникам. Он писал: «Я верю в живую связь с прошлым и в преемственность. Что касается воли Божьей, то она в том и заключается, чтобы мы искали, действовали, боролись до конца. И только в этом «конце», когда все средства исчерпаны, предавали Ему все. Ничего, кроме надежды и терпения в молитве, нам не остается. Это, как предельная нищета, когда теряешь все и остаешься только с Ним, в наготе, как новорожденный. Ничего у нас нет, ни сил, ни жизни, все от Него».
Источник всего многообразного творчества, служения и христианского пути о. Александра – в личности Христа, в Евангелии, в Жизни Вечной, в Царстве Божьем. Если проанализировать молитвы, проповеди, последнюю лекцию о. Александра «Христианство», произнесенную им накануне гибели, - они свидетельствуют о направленности его воли, о его укоренённости в Библии, об абсолютной преданности Богу, об осуществлении им в своей жизни заповедей Христовых.
И в повседневной жизни проявлялись такие качества его характера, как кротость, смирение, терпение, душевная щедрость. Жена о. Александра после его гибели рассказывала, что за 34 года жизни в браке он с ней ни разу не поссорился. Несмотря на трудные ситуации, не давал возникнуть конфликту, покрывая все любовью, чувством юмора, обаянием. Он источал радость, счастье, люди рядом с ним преображались. Никто из нас не думал тогда, насколько трагичной была его жизнь.
Из утренних молитв о. Александра:
«Люблю Тебя, Господи, люблю более всего на свете, ибо Ты – истинная радость, душа моя. Ради Тебя, Господи, люблю ближнего моего, как самого себя».
«Источником добра сделай меня, Господи, для всех, с кем встречусь сегодня».
«Господи, да будут все дела мои сегодня во славу Твою! Да будут все мысли и желания мои по воле Твоей!»
Из молитв о. Александра перед причастием:
«Господи, Ты наша первая и последняя любовь, Ты Тот, ради Которого мы живем, в Котором живем, к Которому стремимся, Которым дышим!»
«Дай нам прикоснуться к Тебе, вдохновиться Тобой! Уйти отсюда, как на крыльях, знать, что Ты, с нами, что Ты нас благословляешь, Ты нас любишь, Ты нас исцеляешь, Ты нас спасаешь – Своей кровью, Своим сердцем, Своими страданиями».
Духовное руководство о. Александра было исцеляющим, потому что у него был дар передавать любовь Божью, веру в милосердие Божье, – и это кардинально меняло жизнь человека. Его отношение к людям можно назвать служением милосердия и жертвенной любви. Многих своих деревенских прихожан он (при его чрезвычайной занятости) научил грамоте, и они смогли читать Евангелие, Псалтирь, которые он же для них и доставал – Библия в те годы была практически недоступна людям. Рядом с о. Александром каждый чувствовал себя любимым Божьим чадом. В письмах к женщине, пережившей блокаду, лагерь, ссылку, и не имевшей возможности выехать в Ленинград или Москву из далёкой Караганды, и продолжавшей жить в очень тяжелых условиях, – о. Александр пишет: «Когда трудно, вспомните, ощутите: “Господь меня любит. Я живу в лучах Его любви и ласки. Он не оставит”. В этом – всё. Храни вас Бог!».
«Единственно верный путь – держаться за Господа и Его святую Чашу. Господь наша единственная крепость и надежда. Пусть Он хранит, утешает вас».
«Господь в скорбях всегда близок… Он – наш единственный Утешитель и Отец. К Нему будем прибегать во всех напастях. И Он же пошлет силы терпеть «жало в плоть», Он – единственный, Кто нас может поддержать и укрепить. Вручаю вас Его благодатной помощи. С любовью, ваш пр. А. М.»
«Господь милостив, и если Он дает что-то потерпеть, значит так нужно. Может быть, если бы это отнялось – пришло бы худшее. Помните о безграничной любви Создавшего нас. Он видит и знает, и проводит через скорби к свету. Жизнь похожа на поезд, катящийся под откос, а спасение в Господе, Который есть единая наша надежда, свет и радость. Дай вам Бог сил, ваш пр. А.»
В ответ на просьбу рассказать о своем духовном пути, в 1979 году о. Александр пишет: «…Я всегда ощущал, что «вне» Бога – смерть, рядом с Ним и перед Ним – жизнь. Он говорил со мной всегда и всюду. …
Но если уж говорить о каких-то моментах особого подъема, то они связаны с Евхаристией, природой и творчеством. Впрочем, для меня эти три элемента нераздельны. Евхаристию всегда переживаю космически и как высшее осуществление даров, данных человеку (то есть творчества и благодати). …
Бог явственно всегда воспринимался мною личностно, как Тот, Кто обращен ко мне. Во многом это связано с тем, что первые сознательные уроки веры (в пять лет) я получил, знакомясь с Евангелием. С тех пор я обрел во Христе Бога, ведущего с нами непрерывный диалог. …
Где-то на рубеже детства и юности я очень остро пережил бессмысленность и разрушимость мира. И тогда явился Христос. Явился внутренне, но с той силой, какую не назовешь иначе, чем силой спасения.
Тогда же (это было больше 30 лет назад) я услышал зов, призывающий на служение, и дал обет верности этому призванию. С тех пор оно определяло все мои интересы, контакты и занятия. Вместе с этим пришло решение стать священником. Это самое большее, что я могу рассказать…
Я слишком хорошо сознаю, что служу только орудием, что все успешное – от Бога. Но, пожалуй, нет для человека большей радости, чем быть инструментом в Его руках, соучастником Его замыслов»***.
И хочется завершить это выступление словами проповеди о. Александра, словами того, кого Господь прославил венцом мученика: «…мы должны помнить, дорогие мои, что жить с Господом, это значит уже здесь иметь и переживать в своем сердце жизнь Вечную. Таким образом, не только после роковой черты, которая отделяет нас от смерти, но и сейчас, здесь, мы можем иметь жизнь Вечную. И она, как звезда, как неугасимый огонь, уйдет с нами по ту сторону жизни. Загоревшись в темноте нашего земного пути, она будет с нами в бесконечных просторах мира Божьего, когда будет разорвана оболочка праха, и мы уйдем в бесконечность. Жизнь Вечная – это жизнь в Боге, с Богом, в Его любви, Его тайне. Это и есть спасение, и оно нам дано сегодня, здесь и теперь, в этой жизни!»
Рига, 2015
_________________________________
*Впоследствии фамилию отца Серафима произносили как «Битюгов» и «Битюков», но он не противился этому из соображений конспирации.
**Мень А., прот. Письмо к Е. Н. // Aequinox. Сборник памяти о. Александра Меня. М., 1991. С. 184, 185, 186.
***Мень А., прот. О духовном опыте // Христианос – IV. Рига, 1995. С. 45, 46, 48.